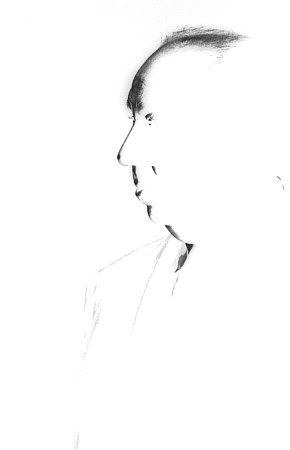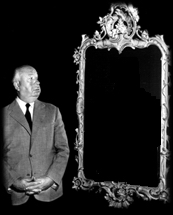



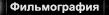


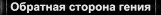







приемы,
которые к тому же стремятся к кинетической абстракции в финальной
бешеной гонке, — а вот фильм Бунюэля оперирует более «трезвомыслящими» средствами и сохраняет доминирующую округлую форму у
всегда твердых предметов, которые сменяют друг друга при помощи простых
стыков1. Но, каким бы ни был избранный полюс, образ-греза всегда подчиняется одному и тому же закону: большой круг, где каждый образ актуализует предыдущий
и актуализуется в последующем, чтобы
в конечном счете вернуться к вызвавшей его ситуации. Стало быть, он, как и образ-воспоминание, не обеспечивает неразличимости реального и воображаемого.
Образ-греза подчиняется таким
условиям, которые предназначают грезу грезовидцу, а осознание грезы
(реальность) — зрителю. Бастер Китон намеренно подчеркивает этот разрыв, устраивая кадр, напоминающий экран, так, что герой переходит из полутьмы зала в сияющий
мир экрана...
Возможно, существует способ преодоления этого разрыва в большом круге через состояния мечтаний, грез наяву, отстранения или феерии. Мишель
Девийе предложил весьма интересное понятие «имплицированной грезы»2. Хотя оптико-звуковой образ и оторван от
его моторного продления, теперь он
уже не компенсирует эту утрату, вступая
в отношения с эксплицитными образами-воспоминаниями или образами-грезами. Попытавшись определить это состояние
имплицированной-грезы сами, мы скажем, что оптико-звуковой образ теперь продлевается в движении мира. Мы
имеем дело с возвращением к движению
(откуда опять же его недостаточность). Но на оптико-звуковую ситуацию реагирует теперь не персонаж, а
движение мира, замещающее собой сбой движения у персонажа. Получается
своего рода «обмирщение», деперсонализация
или, так сказать, прономинализация (сведение к местоименной форме)
утраченного или затруд-
![]() ' Морис Друзи («Luis Bunuel architecte du reve», Lherminier, p. 40—43), анализируя оппозицию между двумя указанными фильмами,
замечает, что «Андалузский пес» движется прежде всего посредством
фиксированных планов, и включает лишь несколько наездов сверху, наплывов и
тревеллингов вперед и назад, один наезд снизу, один-единственный случай применения панорамной съемки, единственный
случай использования съемки
замедленной; поэтому сам Бунюэль считал этот фильм своего рода реакцией на
авангардистское кино тех лет (реакцией против не только «Антракта», но и «Раковины и священника» Жермены Дюлак, чрезмерное использование технических средств в котором стало
причиной, заставившей Арто, автора идеи и сценариста/выступить против фильма).
Как бы там ни было, «трезвая» концепция
также подразумевает техническое новаторство, хотя и иного типа: к примеру, о проблемах, с которыми столкнулся Китон в
фильме «Шерлок-младший» (приема рирпроекции тогда еще не
существовало), ср.: R о b i n s o n David, «Buster Keaton», «Image et son», p. 53—54.
' Морис Друзи («Luis Bunuel architecte du reve», Lherminier, p. 40—43), анализируя оппозицию между двумя указанными фильмами,
замечает, что «Андалузский пес» движется прежде всего посредством
фиксированных планов, и включает лишь несколько наездов сверху, наплывов и
тревеллингов вперед и назад, один наезд снизу, один-единственный случай применения панорамной съемки, единственный
случай использования съемки
замедленной; поэтому сам Бунюэль считал этот фильм своего рода реакцией на
авангардистское кино тех лет (реакцией против не только «Антракта», но и «Раковины и священника» Жермены Дюлак, чрезмерное использование технических средств в котором стало
причиной, заставившей Арто, автора идеи и сценариста/выступить против фильма).
Как бы там ни было, «трезвая» концепция
также подразумевает техническое новаторство, хотя и иного типа: к примеру, о проблемах, с которыми столкнулся Китон в
фильме «Шерлок-младший» (приема рирпроекции тогда еще не
существовало), ср.: R о b i n s o n David, «Buster Keaton», «Image et son», p. 53—54.