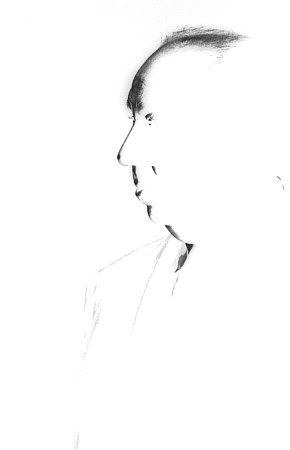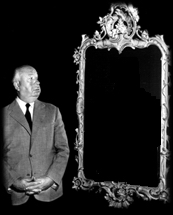



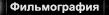


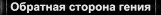







полагаясь в
промежутке между выбором и невыбором (и всеми их вариантами),
отсылает нас к некоему абсолютному отношению с внешним, по ту сторону даже интимного психологического сознания, но также и
за пределы относительного внешнего мира,, и только он способен вернуть нам мир и личное «я». Ранее мы
видели, каким образом кино,
вдохновлявшееся христианством, не довольствовалось применением этих концепций, но обнаруживало их как
наиболее возвышенную тему фильмов (у
Дрейера, Брессона и Ромера): тождество мысли выбору, как детерминация недетерминируемого. Героиня фильма «Гертруда» проходит через все эти состояния, находясь между отцом, который
говорит, что в жизни выбора не бывает, и другом, пишущим книгу о выборе. Страшный человек блага или
благочестивый (тот, для кого не
существует выбора); нерешительный или равнодушный (тот, кто не умеет или не может выбирать); страшный
человек зла (тот, кто выбирает в первый раз, но не может делать выбор
впоследствии" не может повторить
собственный выбор); наконец, человек выбора или верования (тот, кто выбирает выбор или неоднократно повторяет его): таково
кино способов существования, сопоставления этих способов и их соотнесения с внешним, от коего зависят сразу
и мир, и «я». Определяется ли эта внешняя точка благодатью или же случаем?
Ромер, в свою очередь, прошел кьеркегоровские этапы жизненного пути: эстетическую стадию в «Коллекцианерше», этическую
стадию в «Удачном замужестве» и религиозную стадию в «Моей ночи у
Мод» и, особенно, в «Парсифале»1. Сам Дрейер
прошел различные стадии — от слишком большой
уверенности благочестивого, от безумной уверенности мистика, от неуверенности эстета, до простой веры умеющего
выбирать (и возвращающего мир и жизнь). Брессон обратился к пас-калевскому стилю, чтобы обрисовать человека блага,
человека зла, нерешительного, но
также и человека благодати или осознанного выбора (отношения с внешним,
«ветер где хочет, там и веет»). И во всех
![]() 1 Как и у
Кьеркегора, у Ромера выбор всегда зависит от брака, определяющего этическую стадию («Назидательные рассказы»). Но
по одну ее сторону располагается эстетическая стадия, а по другую —
религиозная. Последняя свидетельствует о некоей
благодати, но та непрестанно соскальзывает к случайности, как к нестабильной точке. То же самое происходило уже с
Брессоном. В специальном номере журнала «Cinematographe», 44, fevrier 1979, посвященном
Ромеру, превосходно анализируется это
взаимопроникновение случайности и благодати: ср. статьи Каркас-сонна, ЖакаФьески, Элен Бокановски и особенно
Девийе («возможно, случайность также является скрытым субъектом фильма "Моя
ночьу Мод ": метафизическая случайность ткет в нем загадку вдоль всего
повествования и сквозь пари Паскаля, — эта тема уже начата в плане, где
показана книга по теории вероятности. <...> Одна лишь Мод, играющая в азартную игру, т. е. в игру подлинного выбора,
удаляется в изгнание надменного
невезения»). Что касается различия между завершенной серией «Назидательных рассказов» и сериалом «Комедии
и пословицы», то нам представляется,
что для «Рассказов» еще была характерна структура кратких теорем, тогда как «Пословицы» постепенно приближаются к
проблемам.
1 Как и у
Кьеркегора, у Ромера выбор всегда зависит от брака, определяющего этическую стадию («Назидательные рассказы»). Но
по одну ее сторону располагается эстетическая стадия, а по другую —
религиозная. Последняя свидетельствует о некоей
благодати, но та непрестанно соскальзывает к случайности, как к нестабильной точке. То же самое происходило уже с
Брессоном. В специальном номере журнала «Cinematographe», 44, fevrier 1979, посвященном
Ромеру, превосходно анализируется это
взаимопроникновение случайности и благодати: ср. статьи Каркас-сонна, ЖакаФьески, Элен Бокановски и особенно
Девийе («возможно, случайность также является скрытым субъектом фильма "Моя
ночьу Мод ": метафизическая случайность ткет в нем загадку вдоль всего
повествования и сквозь пари Паскаля, — эта тема уже начата в плане, где
показана книга по теории вероятности. <...> Одна лишь Мод, играющая в азартную игру, т. е. в игру подлинного выбора,
удаляется в изгнание надменного
невезения»). Что касается различия между завершенной серией «Назидательных рассказов» и сериалом «Комедии
и пословицы», то нам представляется,
что для «Рассказов» еще была характерна структура кратких теорем, тогда как «Пословицы» постепенно приближаются к
проблемам.