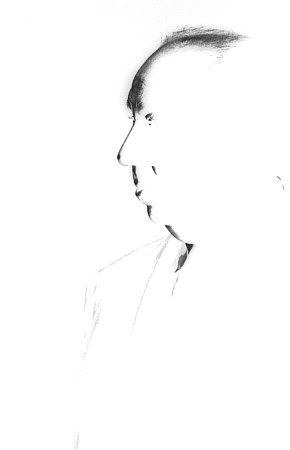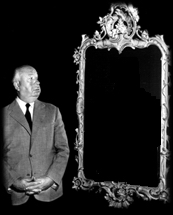



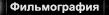


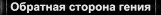







этот промежуток
оставался подчиненным как воплотившемуся в нем интегрирующему
целому, так и выходящим за его рамки ассоциациям1.
Относительно лингвистики можно сказать, что она сохранила классическую модель мозга, как с точки зрения метафоры и метонимии (подобие -смежность), так и с точки зрения синтагмы и парадигмы (интеграция
- дифференциация)2.
Научное познание мозга претерпело эволюцию и общее перераспределение смысла. Все настолько усложнилось, что мы будем говорить даже не о
разрыве, а, скорее о новых ориентациях, лишь в предельных случаях производящих впечатление разрыва с классическим образом.
Однако, возможно, что в то же самое время изменились и наши отношения с мозгом, что привело к довершению картины разрыва
с прежними отношениями независимо от какой бы то ни было науки. С одной
стороны, органический процесс интеграции и дифференциации
все больше отсылал к уровням относительных интери-орности и
экстериорности, а — через их посредство — и к абсолютным внешнему и внутреннему, находящимся в
топологическом контакте: это было открытием топологического
церебрального пространства, проходившего
через относительные среды ради того:, чтобы достичь соприсутствия некоего внутреннего,
более глубокого, чем любая ин-териорная
среда, и некоего внешнего, более отдаленного, нежели любая экстериорная среда3. С другой
стороны, процесс ассоциации все сильнее сталкивался с купюрами в
непрерывной сети мозга, так что повсюду
находились микрощели, представлявшие собой не только пустоты, которые следовало преодолеть, но и
алеаторные (случайные) механизмы,
каждый раз включавшиеся в момент между посылкой и приемом ассоциативного
сообщения: таким было обнаружение вероятностного или полуслучайного мозгового
пространства, «неот-
![]() 1 Бергсон, ММ, гл. III.
1 Бергсон, ММ, гл. III.
2 Это хорошо заметно
у Якобсона («Langage enfantin et aphasie». Ed. de Minuit), при
знававшего две оси и ставившего в
привилегированное положение ось ассоциа
ций. Следует также изучить сохранение
старой церебральной модели у Хомского.
Для понимания кинематографа,
очевидно, необходимо поставить следующий воп
рос в рамках семиологии лингвистического типа: какая имплицитная мозговая мо
дель лежит в основе отношений между кино и языком (langage), к примеру, у Кри
стиана Метца? Среди разработчиков подобной
семиотики, на наш взгляд, более
прочих осознавал эту проблему Франсуа Жост: его анализы предполагают иную
церебральную модель, хотя,
насколько нам известно, он не занимался этим вопро
сом впрямую.
3 Жильбер Симондон анализировал эти проблемы: как процесс интеграции-диф
ференциации отсылает к относительной дистрибуции интериорных сред и эксте-
риорной органики; как последняя, в свою очередь,
отсылает «к абсолютным инте-
риорности и экстериорности», проявляющимся в топологической структуре мозга
(р.
260-265: «кора головного мозга не может быть адекватно представлена в Евк
лидовой геометрии»). <
. •