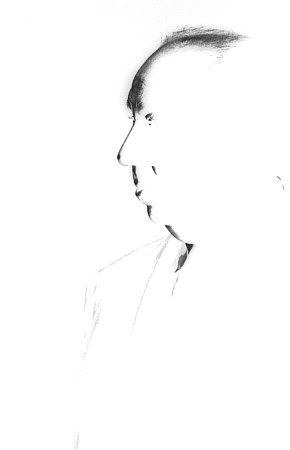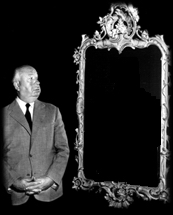



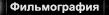


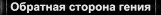







![]() 1 Масса
противоречий между визуальным и звуковым элементами встречается в ■«Человеке, который лжет»: показана гостиница, полная народу, тогда как голос
объявляет, что она пуста; голос
Бориса утверждает: «я не знаю, сколько времени я гут нахожусь...», тогда как
образ демонстрирует, что он уходит вдаль. Но это не те противоречия, которые имеют существенное значение:
по мнению Гардьеса, это, скорее повторения и переворачивания, основанные на
своего рода «парадигматике», мобилизующей визуальный и звуковой элементы
(«Le cinema de Robbe-Grillet», ch. VIII, conclusion). Шато и Жост употребляют понятие
парадигмы в расширительном значении и
переносят его на параметры, имеющие функции предвосхищения и возвращений назад:
в этом смысл их открытия «телеструктур» и зависящего от них
аудиовизуального кода («Nouveau cinema,
nouvelle semiologie», ch. VI).
1 Масса
противоречий между визуальным и звуковым элементами встречается в ■«Человеке, который лжет»: показана гостиница, полная народу, тогда как голос
объявляет, что она пуста; голос
Бориса утверждает: «я не знаю, сколько времени я гут нахожусь...», тогда как
образ демонстрирует, что он уходит вдаль. Но это не те противоречия, которые имеют существенное значение:
по мнению Гардьеса, это, скорее повторения и переворачивания, основанные на
своего рода «парадигматике», мобилизующей визуальный и звуковой элементы
(«Le cinema de Robbe-Grillet», ch. VIII, conclusion). Шато и Жост употребляют понятие
парадигмы в расширительном значении и
переносят его на параметры, имеющие функции предвосхищения и возвращений назад:
в этом смысл их открытия «телеструктур» и зависящего от них
аудиовизуального кода («Nouveau cinema,
nouvelle semiologie», ch. VI).
характеризовавшее
его на первой стадии звукового кино. Он перестал все видеть, научился сомневаться,
стал колеблющимся и двойственным, как в «Человеке,
который лжет» Роб-Грийе или в «Песни об Индии» Маргерит Дюрас, поскольку разорвал узы с визуальными образами, наделявшими его всемогуществом,
которого у них не было. Voice off утрачивает
всемогущество, но обретает автономию. Как раз это
преобразование глубоко проанализировал Мишель Шьон, и именно оно привело
Бонитцера к выработке понятия «voice off off»,
противоположного
«voice off»1.
Другая новинка (или, в сущности, развитие первой), возможно, заключается в
том, что как закадровое пространство, так и voice off во всех смыслах слова больше не существуют. С одной стороны, речевой элемент и совокупность звуковых элементов
обрели автономию: они избежали
проклятья Балаша (звукового образа не существует...), они перестали быть одним из компонентов визуального образа,
как было на первой стадии, — они сделались совершенно самостоятельными образами. Родился звуковой образ, и родился он из
собственного разрыва с образом визуальным. Это уже не два автономных компонента одного и того же
аудиовизуального образа, как было в фильмах Росселлини; это два «геавтономных»
образа, один из которых визуальный, а другой — звуковой, с
десинхрониза-цией, с зазором, с иррациональной купюрой в промежутке2.
По поводу фильма «Женщина Ганга» Маргерит
Дюрас пишет: «Это два фильма, один из которых образный, а другой —
голосовой. <...> Для каждого фильма характерна тотальная автономия
<...>. [Голоса] уже не представляют собой voices offB привычном значении термина: они не
облегчают ход фильма, а, наоборот, создают в нем помехи и недоразумения. И эти помехи и недоразумения не
следует привязывать к фильму образов»3. Дело здесь в том, что
— с другой стороны и в то же самое время — перестает сбываться и второе
проклятье Балаша: он признавал существование
звуковых крупных планов, наплывов