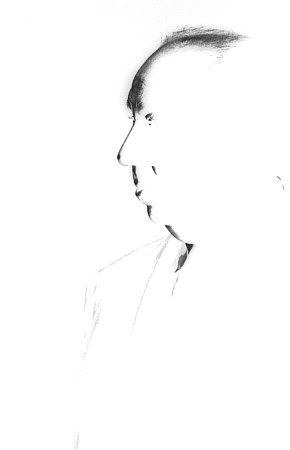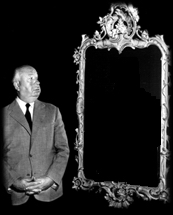



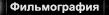


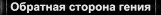







Все остальные биографии так или иначе
прерывались, ломались, переписывались, ее же — никогда, даже в пору, когда
фильм "Среди серых камней" был изуродован и выпущен под чужим
именем. Или когда ей пришлось вообще бросить снимать и пойти работать в
студийную библиотеку. Так что перестроечиая "перемена участи"
режиссера была все же чисто внешней — как перемена декораций. В то время как
многие надеялись, что именно перемена декораций (например, новый служебный
кабинет) что-то изменит в их творческой судьбе.
Реальная перемена — душераздирающий,
признанный "социальным диагнозом" и шедевром пессимизма "Астенический
синдром" (1989). Вот в этом фильме можно, пожалуй, ощутить
противопоставление интеллигенции и народа. Только не в пользу первой. У
Муратовой красота человека, как и всего сущего, определяется его
естественностью — а совсем не культурным или моральным цензом. Естественный
человек и радуется, и страдает иначе — более примитивно, но более сильно. Чем
примитивнее экземпляр людской породы, тем непроизвольнее проявляется его
самоценная сущность. Чем больше ее требования задавлены "надстройкой или
"перестройкой", тем сильнее они прорываются астенией или агрессией,
внутренней либо внешней истерикой.
И однако это единственный фильм
Муратовой, в котором ее собственная внутренняя истеричность вырвалась на
внешний, на глобально социальный уровень. Знаменитый "мат",
прозвучавший из женских уст в финале, оказался отчаянным криком растерявшегося от
вседозволенности общества. Которое более не нуждалось в нравственных услугах
интеллигенции и посылало ее со всеми ее заморочками на три известных буквы.
При всей мощи "Астенического
синдрома", он остался фактом исторического прошлого, к которому возвращаться
не хочется, в том числе, видимо, и самой Муратовой. После этой
"этапной" работы режиссер обратилась к простым, якобы незатейливым
байкам типа "Чувствительного милиционера" (1992) и
"Увлечений" (1994).
Последняя картина, по характеристике
самой Муратовой, "салонная и абсолютно поверхностная". Сохраняя все
особенности своего неврастеничного стиля, Муратова слепила изящную хрупкую
игрушку. Если вспомнить, что "Астенический синдром" критики
определили как "уродливую розу", то нынешнее произведение скорее
сродни эстетской "голубой розе" Дэвида Линча, памятной поклонникам
"Твин Пикс", или мистической розе Умберто Эко.
О классиках постмодернизма напоминает и
то, как сконструировано пространство фильма. Оно являет собой смесь цирка,
ипподрома и приморской больницы. Связными в этом лабиринте служат две
экстравагантные девицы: одна помешана на лошадях, другая работает медсестрой и
размышляет о теме смерти и стремления к финалу ("Морг — это хорошо, морг —
это прохладно"). Если на время забыть об иронии, принять высокопарный
язык фильма и иметь в виду метафорический смысл овладения конем, то можно
сказать, что Виолетта боготворит жизнь, а Лилия — смерть; одну влечет Эрос,
другую — Танатос.